"Эти глаза не твои… где ты их взял?"
Хулио Кортасар
Что-то влечёт меня к нему уже много лет. Почему так внимательно наблюдаю? В глаза больше бросается некая неряшливость образа, даже запущенность. Клумба, которую давно никто не полол. Холостяк, что тут скажешь? И эта его всегда отрешённость среди тусовочного народа, обособленность в толпе, просто возмутительная автономность, так что и подступить страшно. С него станется – пошлёт. А ещё глаза, которым как бы невыносимо скучно и утомляет шум и гам, а выпить хочется и пьёт, но всё как-то слышит и примечает и запоминает, а потом, почти моментально, как фотография – готовый материал. Многое, из того, что он пишет в прессе мне неинтересно. Промелькнуло знакомое имя – и всё. Недавно разбирала свой небольшой архив и нашла его статью десятилетней давности. Пожелтевший клочок газеты, которой уже не существует. Стала перечитывать – и увлеклась. Лёгкий стиль, мало присущих нашей жизни штампов, язвительный, бьющий в точку юмор (теперь – больше чёрный) и даже некоторое кокетство. Вот вам параллель, нашёл и показал, а вы и не догадывались. Вот вам ещё одна. Бью козырем.
Но больше он чудак, таких уважают за ум и прозорливость, но сторонятся. Зачем пускать в свою комфортную жизнь неуют? У меня к людям такого рода патологическая любовь. На моём пути они все с червоточинкой, ему она присуща. Так сколько же я его знаю? Годиков так пятнадцать, вероятно. Больше? Не помню. С цифрами у меня сложно, хронологию собственных лет отчаянно путаю: что, где, когда, хоть убей – не помню, но вот, как и почему – воспроизвожу с аптекарской точностью. Другое дело зачем? Тут объяснению не поддаётся. Было и всё. Баста. Не спрашивайте. Так случилось, так должно было случиться. Это уже по Курту Воннегуту, моему любимому автору. «Колыбель для кошки» в третий раз перечитала совсем недавно. Уже спокойно, без телячьих восторгов. Думаю, у нас карасс: мудрый автор и вдумчивый читатель. С ним у меня тоже воннегутовское совпадение. Это я уже не о писателе, а о нём, живом человеке. Я растрёпанная и в мыслях перескакиваю, как по кочкам. Друг воспринимает мою словесную чехарду спокойно. Если надо, задаёт наводящие вопросы, как палочку-выручалочку подаёт. Признаться, сама нередко путаюсь, но тут уже не чувствую под собой зыбкость почвы, потому, что держусь, есть опора. Ему вопросов почти не задаю. Зачем мне знать лишнее? Нам хорошо вдвоём, да и ладно. «Слушай, – спрашиваю я ходячую энциклопедию, – когда Курков к нам приезжал. Мне важно число знать, потому что на встречу пришла, а потом сразу в больницу, глазик реставрировать. Доктор просит дату вспомнить, чтобы дальше меня зрячей делать». Ни секунды заминки: число, месяц. Просто замечательно, как будто блокнотом обзавелась. Всё там по полочкам. Полный порядок.
Он, о ком пишу, как-то ошарашено быстро приблизился. Хотя нет, вру, за ним я хищно долго охотилась. Играла, как кошка с мышкой, хотела поймать. Неразумная была: кто ж его поймает? Видишь силуэт амфорно суженный книзу, лохматую бровь, одуванчиковую седину (слишком много волосяного покрова на одно лицо) – больше живой портрет во весь рост, чем человек из плоти и крови. Мне нравилось его отрешённое всеприсутствие: вроде бы есть, и в одночасье нет, трудно суть постигнуть.
Иногда он сидит на стуле, скрестив на груди руки, и засыпает. Никто не удивляется – привыкли, только неделикатная камера не пропускает пикантный момент, чтобы и в нашем, забытом богом селе, народ тоже знал, какими бывают учёные люди. Да они всегда такими и были, если настоящие, истинные, только по разному. Что ты железная глазастая дура понимаешь? Отвернись, не заметь. Видишь, не трезвый, взъерошенный, бесконечно уставший, что ж с глупостями лезть.
Первое признание случилось на презентации его очередной книги. Во время фуршета, где на столах обильно громадился алкоголь-искуситель и почти не существовало закуски, пронёс через весь стол, как на облаке, одинокую котлету посредине пластмассовой бледной печали разовой тарелки, персонально меня обозначил. С тех пор лёд тронулся, но теперь я слишком занята, обустраиваю в Луге быт, сажаю лук и гладиолусы. В Ужгороде редкими наездами, но успех свой постепенно закрепляю. В помощниках богатый опыт – двое сыновей, давно уже не птенцы, научили простым премудростям. Добила я его обильной пищей. Сидим: глотает хинкали, пиво пьёт, живым огнём в камине любуется, взопрел от удовольствия, лоб ладонью вытирает. Идёт, как корабль к причалу, вот-вот станет на якорь, значит, возможно общение. Спрашиваю: «Что ж ты раньше меня замечать не хотел? Встречались часто, в одном городе жили». Оказывается, книжка моя на душу легла. Спасибо, конечно. У меня по жизни заниженная самооценка. Благодарна. Потом свой знаменитый контрабасный дипломат забыл, официантка нас догоняла. И что он там носит? Как-то успела заглянуть через плечо. Две брошюрки на дне. К вечеру что ли заполняется?
Ещё до хинкальной вдруг встретились и пошли. Ходили, ходили, город обдавал зноем, листья на липах шумели во весь голос, как в фильмах Сокурова, раскалённый шар солнца плыл низко, преследовал. Оказались в какой-то подвальной рюмочной под щадящим названием «Теплий стан» – совершенная правда. Уселись напротив друг друга. Рот у меня не закрывается. Слушает внимательно, но мне всего мало. Вскакиваю и то, что рассказываю, начинаю показывать. Места катастрофически не хватает, уже на середину рюмочной выпрыгнула. Посетители равнодушны, как сфинксы, смотрят невидящими глазами сквозь меня. Непонятно есть ли я вообще во плоти, существую ли. Тут бы вспомнить своего мудрого двенадцатилетнего внука Саньку, который в порыве любви как-то сказал: «Люда, ти хороша бабуся, але іноді буваєш така неврівноважена.” На какой-то момент остановилась, втянула носом воздух разочарования. Пахло плохо. Мой слушатель кивком показал на двери, притаившиеся рядом. Понятно, без разбору плюхнулась за столик у туалета, спешила выплеснуться, выйти из берегов, разразиться словами. Вот и пропустила существенную деталь.
Ему нравятся заведения, в которых домовым поселился на веки-вечные зловещий сюрр. Понимающе улыбаюсь. Как-то во Львове забрели мы с покойным поэтом Лишегой в пельменную. Клеёночки клетчатые на столах, искусственные цветы в вазочках. Стоп-кадр, будто перенеслись в домашние шестидесятые. Дари, жена Олега, кричит, что обслуга удостоилась чести кормить у себя двух замечательных украинских мастеров слова. Это она и про Мидянку тоже. Водку нам подали в покрытом изморосью графинчике, обслужили на славу. Дари, насытившись, подперла с крестьянской усталостью кулачком голову, и затянула печально-протяжную длинную, как летний день, песню. Вышли мы из пельменной – на улице вечер. Львов, как всегда, празднично светится. Дари берёт Мидянку за руку, к танцу поощряет, теперь уже на коломийки перешла. Так весело в нужное место и пришли. Фотографии того дня бережно храним в архиве. Никто из нас не думал тогда, что все вместе мы в последний раз, и там, в неказистом заведении, где Дари оставила в подарок свою тужливую песню, были бесконечно счастливы.
Какие силы сводят нас так часто? Сталкивают на перекрёстках, улицах, в магазинах, городские события вообще его фишка. Пойдёшь – обязательно наткнёшься. Мне без надобности его номер мобильника. Да и нет у нас общих дел, у меня к нему вопросов, у него – тем более.
Порой при виде его сворачиваю. Не сегодня, не сейчас. Пусть идёт неведомой мне дорогой. Занята, спешу. С трудом собрала по лоскутам свою непоседливую сосредоточенность, боюсь: растеряю по пути или вообще не приду в нужное место.
Теперь могу ему звонить. Откликается не всегда: работа или что-то ещё. При встрече спрашиваю: каким временем располагаем, чтобы на часы не смотрел и знала точно, когда исчезнет.
Я проговариваю свои ненаписанные тексты, вожу перед ним будущих героев за руку, крепко ругаюсь, негодую, люблю, обнимаю, плачу, восторгаюсь, спотыкаюсь, падаю, встаю, иду, чтобы куда-то прийти. «Люда, – почти стонет он – ти заповнюєш собою весь простір”. Я чувствую этот плотный воздух, он, как студень, его можно резать ножом. Ладно, делаю паузу, пусть, но терпеть нет никакой мочи, продолжаю с ещё большим накалом, мчусь через годы, события, вгрызаюсь, вонзаюсь. Мне обязательно надо их увидеть, иначе не напишу, не получится, мне надо извести себя до головной печальной боли, резях в желудке. Друг встаёт неожиданно: рука к сердцу, будто гимн поет, подхватывает на ходу дипломат и исчезает. Ещё недавно не прощался вовсе. Наш общий хороший знакомый наблюдал немую сцену отступления. Потом чувствовал себя неловко и не единожды спрашивал: «Я вам не помешал?»
Всё. Ушёл. Нет, Мидянка меня тоже читает, делает это, как крупинки собирает: медленно, вдумчиво; но там уже перегорело, текст вкатан, как в асфальт, написан, воплощён. Здесь кипит, плавится, зреет. Знаю, другу нравится моё сумбурное подслеповатое словесное тыканье, моё яростное продирание на ощупь, а мне мило, что его глаза возвращаются из недр себя, они теперь со всеми нами: цветущими садами, нежной зеленью, уличным гамом. Здравствуй, наконец, ты вернулся. И что теперь делать с нашей соседкой-агрессором? Не успела рассказать. Если в историю запустить нелюбовь, что-то злое или слишком личное, то испортишь. Надо отстраняться.
Рассказ о друге сопротивляется, как живое существо. Поначалу отвлекалась на ненужное. Это уже четвёртый вариант. Первый – совсем никакой, слишком пусто и скучно в нём, потом на что-то нажала, слился в двадцать шесть слов на четыре печатных страницы. Отнесла к приятельнице. Восстанавливала, отдирая слово от слова. Спасибо ей. Потом не могла нащупать нужную тональность. Ну, не о встречах двух взрослых людей, которые любят пропустить вдвоём рюмочку и посудачить ни о чём, здесь пишу. К тому же почти ничего не вижу, буквы в двадцати сантиметрах от глаз, иначе – размыты. Наконец, нашла ту самую лёгкость, слова полились одно за другим сами собой, так увлеклась, что почти ночь пропустила. На следующий день – хвалилась подругам, давала почитать. Рассказ спокойно жил в домике из ноутбка. Мне захотелось добавить деталь, убрать лишнее предложение. Заглянула, а он (текст) ушёл, почти весь. Да что же это за герой такой? Сладу нет. Врассыпную всё, что с ним связано, как в детском стишке: убежало одеяло, убежала простыня.
Ночь, огни за окном, настольная лампа склонилась над пустотой монитора. Надо снова войти, как в реку, проникнуться тем состоянием, чтобы не фальшивить, не сбиться на пошлость. Случайность, или какой-то знак? Что значит это компьютерное исчезновение образа?
Вот он бежит, в руках бледно-лимонные нарциссы. Напряжён. Букет, как ружье, вот-вот выстрелит. Дипломат за букетом совсем потерялся, поблекла важная деталь. Когда в последний раз мне дарили цветы? И дарили ли вообще? Не помню.
Танцевали не раз, чаще – когда были мало знакомы. Недавно – год назад, в парке, на глазах гуляющей толпы. Одни, на новой асфальтированной дорожке. Я в восторге, обнимаю настоящего профессора, нет, больше – целую научную библиотеку. На ощупь – плюшевый мишка, рука сама, не спрашивая меня, тянется погладить. Домашний, как игрушка и добрый, только мех почему-то не в ту сторону, дыбом.
Сакуры отцвели и пожелтели, как ржавчиной покрылись. Горько пахнет сирень. Погода какая-то нынче неустойчивая: то ветер и прохладно, то жарко, сразу лето. Неуютно мне. Живу сейчас у реки. Её не видно (внизу, за пригорком), только слышу, как убегает вода, тихо плещется, говорливо шумит, спешит. Уходит ежемоментно, как жизнь. Она – моя музыка, мой Моцарт, Бетховен и Гендель, мои воспоминания, мои складывающиеся в текст слова, шаги, воскресный церковный звон, откровения внуков, улиточная свёрнутость над чистым листком бумаги мужа-поэта, отчаянье снега. Этот звук, ночью и днём, заполняет и тревожит. Моё сердце бьётся, руки делают ежедневную тяжёлую сельскую рутинную работу, пальцы стали толстыми, спина ноет, эта боль слилась со мной, её уже не замечаешь. Но разве можно перестать думать? Живём, как слепцы, сосредоточены на себе и материальном. Никто никого не хочет любить, только претворяются. Сама до недавно была такая. Теперь компенсирую внукам. Если бы чуть-чуть, сумели оглянуться, посмотрели по сторонам, не толкались локтями в толпе. Много церквей, мало Бога, великого, всемогущего… И эта война без смысла в краю, где подсолнухи, как дети, следуют за тобой.
Выходной. Обедаем в ресторанчике над Ужем. В окне – река, уже не наша – бурная, тихая – городская. Веночком над ней – пешеходный мост. Взмахнёт крылом, оставит тень на воде птица. Шевельнётся, вздохнёт, длинная, цвета топлёного молока штора на окне, за которым лениво разлеглось ещё совсем бледное весеннее небо. Тепло и солнце. Говорить не хочется. Так, перекидываемся словами и созерцаем пейзаж. Ещё немного попрощаемся и уйдём каждый за свою дверь. Зачем впустила тебя в свою перезревшую жизнь? Там, дома, меня ждёт беспомощный в быту муж, огород, голодные коты. Сидишь рядом, расслаблен, слушаешь реку. Внимательно его рассматриваю. Изображение кривое, потому что один глаз у меня зрячий, другой – почти слепой. Несоответствие. От этого осколки и углы. Кубизм в реальности. Вижу во впадинке на его щеке застыла лёгкая влажность. Осторожно вытираю её пальцами руки.
Не пытайся складывать у моих ног все кресты. Свой бы донести, не споткнуться, упасть. Не победитель я, тебе только кажется, просто уставшая женщина. Твоя мечта прекрасна и недосягаема, как Лаура. Посмотри, там, в чёрном чулке вопросительно изогнулась высокая, как ножка фужера, нога. Равнодушен, не хочешь. Зря. Они молоды и красивы.Что так мучит тебя, не отпускает. Это я думаю, не спрошу никогда, пусть сам. Да и спрашивать ни к чему. И так знаю всё. Могу только повторить с уверенностью: «Эти глаза не твои где ты их взял?»
Буду ждать у ректората на остановке. Хорошо. Я в маршрутке, как раз по пути. Жди. Жду. Подсаживается старая приятельница. Весело нам. Вспоминаем поездку в Вену. Наши с ней приключения. Говорю, у меня свидание на конечной. Ждут меня. У медфака в проёме распахнутой дверцы в последнюю секунду замечаю растерянное лицо, успеваю махнуть рукой, мол, вижу тебя, вижу. Иди за мной. Выйду на следующей. Откуда мне знать, что ректорат давно перенесён? Приятельница задумывается: тут мужчина встречал, кто же тебя на конечной ждёт? Второй? Объясняю: один и тот же человек. И там и там. Вернее, должен быть там, случился тут. Перепутали. Бред какой-то. Господь порой тоже шутит, вот и тасует нас, как карты. Беги за мной, беги. Теперь твоя очередь, господин Убегающий, а может маканинский Отставший?
«Где ты, где ты?» – голос запыхавшийся, сбившийся, телефонный. Вспомнил, наконец, забыл, как зонтик в кафе, теперь, наверное, найти хочет. «В больнице я. Опять глазки ковыряли. Если можешь, выведи меня отсюда, всё расплывается, в тумане». И как он умудряется появляться так же мгновенно, как исчезать? Дипломат что ли летающий? Держит меня за руку. Бережно. Чувствую себя древним китайским фарфором, который разбить никак нельзя. Преодолеваем ступеньку за ступенькой. Все. Спустились. Улица, свобода и нет никаких препятствий. Идём? Идем. Сначала туда. Давай. Тут недалеко. Там люди замечательные. Познакомишься. Знакомлюсь. Спрашиваю. Вопрос один за другим, как ручеёк. Он уточняет. Неплохое устное интервью у нас выходит. Можно и записать. Пошли? Идем. Как обычно, в никуда, чтобы был город, люди.
Бордюр, дорога, дыры в асфальте, пелена перед глазами, неуверенный шаг, полусон-полуявь. Ушел, потерял, снова забыл. Вспомнит, вернётся. Что-то расплывчатое алое справа. Машина какая-то. Не успею на ту сторону перейти, боюсь спешить, где же он? Вот сейчас нечто механическое раздробит меня на куски, не дано написать, проговорить, уйдёт со мной не высказанное, не сбывшееся, как много в жизни пропустила-не успела, останется. Буду не я. Друг, где ты?
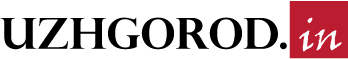
Залишити відгук
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.