Начало 50-х, а точнее 1952 год. Незаметно и как-то внезапно пришла пора мне идти в школу. Мама долго выбирала, в какую. Все шло к тому — пойду в венгерскую, что на левом берегу Ужа "a füzesben", то есть — "в ивняке ", но потом почему-то посчитала — далековато (а может и другие соображения брались в расчет). В конце концов, остановилась на русской школе N3 для мальчиков, тоже на набережной (тогда Ленинградской), но на правом берегу Ужа. Тут следует напомнить, что до середины 50-х, а точнее до 1955 года обучение было раздельным: были школы для мальчиков и отдельно — для девочек.
Так вот, 1 сентября 1952 года мама, приодев соответственно предписаниям того времени, взяла меня за руку и отвела в школу (Масарика, как по старинке называла бабушка и, как кто бы мог подумать, называется и теперь).
Одет был действительно, как рекомендовалось в школе, и пострижен соответственно (налысо, допускалась, правда, небольшая челка). Белый воротничок, темные брюки и все такое.
К маминому (и моему) удивлению, мои будущие соклассники были одеты по-разному, лысых, пожалуй, вовсе не оказалось. И это при том, что контингент был целиком из русских, почти все — дети советской номенклатуры. И эта пестрота почему-то очень удивила маму, которая по возможности, старалась следовать во всем предписаниям, писаным и неписаным.
Позднесталинская эпоха отличалась атмосферой безысходности, да уже и, своего рода, привыканием. Режим закостенел, и люди смирились с неизбежной реальностью. Помню учебники, в частности, букварь с весёлыми "оптимистическими" картинками советского рая, с портретами вождей, главным образом, конечно, Сталина. Улыбающаяся "мама мыла раму" , в поле работал трактор, весёлые рабочие (среди них неизменно должна быть улыбающаяся во весь рот белозубая девушка в комбинезоне) строят дома и т.д.
Как известно, ребенок воспринимает главным образом картинку, внешнюю форму, а не содержание. Эту восприимчивость и эксплуатировала школа. Правда, в процессе взросления школьник неизбежно прозревал, становясь к окончанию школы большей частью циником и приспособленцем, реже — просто доверчивым дурачком.
Атмосфера школы образца 52 года, да еще такой — откровенно сталинской, в которую я попал, ощущалась моментально и проникала в кровь со зловещей неотвратимостью. В классе нашем над доской висел Иосиф Виссарионович в военном кителе, за спинами нашими — Ленин в гражданской "тройке", с галстуком в горошек, вдоль стены напротив окон — иконостас русских классиков, среди которых как-то по-особому выделялся Пушкин.
Первой учительницей моей стала Лидия Фоминична Родионова, скромная, седеющая женщина, со слегка трясущейся головой. Строгая и требовательная, но справедливая. И как теперь вспоминается, без особого "патриотического" и партийного рвения. Словом, хрестоматийный тип учительницы — такими их изображали в школьных учебниках: добродушные, с неизменной шалью, накинутой на плечи.
Меня она как-то выделила сразу. Может из-за правильного "прикида" (благодаря маминым стараниям). Даже, вызвав к доске, поставила в пример: "Вот так должен выглядеть ученик первого класса! — пострижен, в темной курточке и белым воротничком". Мама потом частенько с гордостью вспоминала этот эпизод. Я же тогда чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Даже подметил, с какой неприязнью и, цинично улыбаясь, на меня смотрели пацаны и даже большинство мам. То есть, репутацию среди соклассников мне это подпортило сразу, правда, ненадолго.
Не прошло так уж много времени и Лидия Фоминична — тактично так — просила маму не держать меня в чрезмерной строгости, а дать вволю порезвиться дома, чтобы потом в школе вел себя не, как "с цепи сорвавшийся козленок". В школе, действительно, моя энергия била через край: если не хулиганом, то проказником был уж точно. Еще надо сказать, не смотря на первоначальные языковые трудности, учился я хорошо, даже несколько лет к ряду был отличником. Отметился также в каллиграфии: тетради мои непременно выставлялись на всеобщее обозрение как образцовые. В те годы почерку, каллиграфии уделялось особое внимание. Был даже специальный предмет — каллиграфия. Позже — чистописание. Писать, к тому же, предписывалось исключительно пером номер 11, никто ни под каким предлогом не смел уклоняться от данного правила. Чернильницы, особые фарфоровые штучки, сделанные так, чтобы предотвратить проливание при опрокидывании, тоже следовало носить с собой в специальной торбочке. Цвет чернил должен был быть исключительно фиолетовый, строго предписанной насыщенности. Случалось, забыв наполнить чернильницу дома, остатки разбавляли водой, за что моментально получали замечания, иногда отправляли с уроков.
Надо сказать, нам тогда в школе было весело, как, думаю, всегда и везде детям такого возраста. Были мы беззаботны и по-настоящему жизнерадостны. Даже 5 марта 1953 года. Этот день мне навсегда запомнился какой-то непонятной торжественностью и выражением явной растерянности на лицах взрослых. И дома, по-прежнему вполголоса переговаривались мама с бабушкой с соседями: умер Йовшко-бачи, С особой таинственностью — со Златой Яковлевной, русской эмигранткой. По дороге в школу на всех зданиях — приспущенные флаги. Особо запомнился как-то вяло поникший с черной траурной ленточкой флаг на фасаде банка, прямо под статуями четырех бесстыжих голых женщин, установленных еще чехами (почему-то не демонтированных целомудренными советами). Такой же флаг с черной лентой был и на нашей школе. Еще я запомнил красно-черные повязки на рукавах большинства прохожих. Особенно на рукавах вдруг появившихся во множестве людей в униформе.
В самой школе царила необычная, зловещая даже и, как теперь вспоминается, паническая атмосфера, ощущалось состояние явной безысходности, даже осиротелости, среди учителей, конечно. К тому же, нам полагалось вести себя подобающе моменту образом. То есть, не бегать, не шуметь, ну и, соответственно, никаких шуток и смеха. А вот это, последнее, требовалось зря. Ибо нас сразу начал разбирать смех (может даже, истерический, при виде необычного поведения, явной растерянности даже самых строгих учителей -мужчин.
Но довершила все просьба одной, явно недалекой учихи — плакать. Всю школу собрали в спортзале, самом большом помещении школы, и мы, проходя мимо раздевалок, подбегали к умывальникам, чтобы намочить глаза и выглядеть рыдающими, при этом смотрели друг на друга и укатывались со смеху, время от времени повторяя "водные процедуры". Бедные учительницы ничего с нами поделать не могли. Да, в конце концов, не до нас им было. Горе, кажется, было искренним, да попробуй не прояви его тогда надлежащим образом. Атмосфера страха со смертью тирана никуда не делась, думаю — даже усилилась перед лицом неизвестности. Не мыслили ведь жизни своей без вождя и "учителя" — побочный эффект затянувшейся деспотии. Типа "Что мы без тебя, родимый, делать будем?".
Надо сказать, смерть Сталина меня никак не впечатлила, да и с какой стати? Нас, детей, никоим образом не интересовало, что там творится в недосягаемых высотах. Да тут, к тому же, запахло весной, осталось доучиться последнюю четверть и перейти в следующий класс, что воспринималось, как явный признак взросления.
На трибуну, открыть траурное собрание, вышел бледный, как стена, осунувшийся Александр Сергеевич Медведев — директор наш. И, как водилось по тем временам — историк. Железная дисциплина школы — его заслуга. Но на это раз обычная его собранность, строгий металл в голосе куда-то испарились. Произнеся первую фразу, потерял самообладание, размяк как-то и заплакал. Тут его место на трибуне заняла завуч — Ольга Дмитриевна Гончаренко, в последующем не только на трибуне, но и в директорском кресле. По какой-то, нам неведомой и неожиданной логике внутришкольной иерархии. Новую директрису за глаза называли Екатериной Второй, и впрямь было нечто царственное в её облике и манере держаться, говорить. Уж точно, дважды одно и тоже не повторяла. Иногда одного взгляда было достаточно, чтобы ученик (а может и коллега) понял, что от него требуется и где его место.
Вспоминается, когда бывало, учитель задерживался, или вовсе не приходил на урок (что в этой школе случалось крайне редко) и ребята, вкусив воздух свободы, начинали шуметь и бегать по классу, даже устраивались потасовки, и шум доходил до высочайшего уха Ольгушки (иногда и так ласково её величали), она появлялась вдруг на пороге класса все, кто где был, в какой позе застала, терялись и замирали от неожиданности (и страха). Чаще всего не проронив ни слова, и со строгим выражением лица постояв немного на пороге, величественно удалялась, и только, когда шаги её стихали, ребята тихонько, стараясь не глядеть в лицо друг другу, рассаживались по местам, до конца урока сидели смирно.
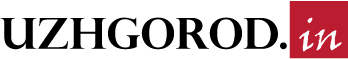

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.