«Более 20 лет Михаил Копельман был первой скрипкой легендарного Квартета имени Бородина и одновременно концертмейстером Оркестра Московской филармонии. Преподавал в Московской консерватории, Йельском университете и Истменовской школе музыки. Был первой скрипкой в Токийском квартете, а затем в собственном Квартете Копельмана. Однажды в Англии мне пришлось ехать в поезде с Михаилом Копельманом, и по дороге он рассказывал о родителях и о начале своего пути в музыке. Мы договорились когда-нибудь записать его воспоминания. И вот недавно беседа состоялась в доме Михаила Копельмана под Нью-Йорком. В кабинете-студии тома партитур, книги, записи и на стенах коллекция картин современных закарпатских художников».
Из программы Игоря Померанцева. Радио «Свобода», «Поверх барьеров».
Зимой катались на санках. Съезжали с горки Калварии вниз. Припудренный, помолодевший на денёк-другой город, щенячий восторг детей, крики, слёзы, смех — катавасия. «Христос раждается – сла́вите,
Христо́с с Небе́с – сря́щите. Христо́с на земли́ – возноси́теся.
По́йте Го́сподеви, вся земля́ , и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.
Кутерьма, суматоха, разноголосица, тарарам, бедлам, светопреставление, мажор, крещендо!
Взятые под уздцы санки упрямо тянут за верёвки вверх запыхавшиеся краснощёкие, закутанные по самые глаза, дети. На детей мало похожи, больше — на туго набитые всякой всячиной кульки. Ох, уж эти мамочки! Что попало из того, что под рукой: связано, сшито, куплено в универмаге по блату и обязательно на вырост. Лишь бы дитятко не продуло и никаких щелей, куда бы злой ветер-отступник не проник, не навредил. Кто помнит царственное слово: блат, господствующее в некотором царстве, в некотором государстве, растаявшее, исчезнувшее вместе с ним. Там, на другом континенте, в других реалиях и ритмах, льдинка-слово растаяло, как готическое царство Снежной королевы, не ожесточив сердца. Из-за всех этих обёрток руки в растопырку, ноги – вата, зато блеск парчи ровного полотна под санками, сладостная скорость скольжения, холодок на поворотах где-то там, внутри, и не понять никак где: у сердца, под ложечкой, в животе. Солнечный луч в расширенном зрачке преломлён в ветках деревьев. Ух — и вниз. Подъём долгий, высокий. Вдоль ограды городского кладбища, вдоль пожилых длинноруких деревьев, посаженных у изголовий памятников скорбящими родственниками, вдоль капличок, внутри которых ещё смутно светятся, ещё живы, не закрашены твёрдой рукой воинствующего атеиста фрески с изображениями скорбного пути Иисуса Христа на гору Голгофу. Первый поворот. Докарабкался, дошёл, преодолел, у цели, спускайся. Второй – для отчаянных. За ним исчезают улица, школа, перекрёсток, не виден их дом у подножья горы. Упрямая стрела дороги вверх, навалившее безмолвие кладбища, ползущий вредоносный плющ душит в объятиях стволы мертвецки бледных деревьев.
То ли дело — первый. Многолюдно, весело, у калитки встречает, ещё совсем молодая, стройная, как девочка, мама. Мальчик резко тормозит, буравит укатанный снег ногами, отчего он дыбится, разлетается по обе стороны санок фонтанами из снежных комков и комочков. Еще не хочется уходить, ещё сияет краткосрочное зимнее солнце, и дети только-только стекаются с соседних Винничной, Дайбожской, подтягиваются снизу: Суворова, Калинина. Венгерская, украинская, русская речь сплетаются в одно крикливое, требовательное, нахальное, радостное, в разнобой, птичье пение. Фуга, прелюдия жизни. Осанна! Мама говорит по-венгерски, русский понимает слабо. Венгерский в семье родной. Мальчику пора домой, строгий график и режим. Он играет на скрипке, потому что не ходит в детский сад по причине того, что мама не работает. Ничего не делает только занимается домашним хозяйством. Пусть и детьми занимается, решила новая власть. Таким детям садик недоступен, но маме хочется приобщить ребёнка к коллективу, дать хорошее воспитание и образование. Альтернатив особых нет, тогда — музыкальная школа. Они спускаются вниз, к римо-католическому собору, где по воскресеньям дамы в вуальках нарядными толпами сосредотачиваются «на кресте», главном перекрёстке центра. Мама ведёт его в школу, футляр со скрипкой бережно в руке. Город Унгвар теперь называется Ужгород, удивительный, уникальный город его детства. Здесь и по сей день большинство отмечает два Рождества и две Пасхи.
Стоп. У этого далёкого незнакомого, известного миру человека, одно на нас двоих воспоминание. Из тумана памяти выхватывается, оживает, загорается ярким светом фары среди темноты, вспыхивает и оживает картинка. Перпендикуляр горы, снег, я среди тех, кто пришёл сюда с улицы Суворова. И ещё. Православный храм, мимо которого бабушка водила меня в садик, кроваво-красные леденцы-петушки на палочке. Их продавали здесь в церковные праздники. Приглушенные песнопения, рвущиеся из дверей. «Христос раждается – сла́вите» В нашей семье говорили по-русски, отмечали только Новый год.
Позже этот же перпендикуляр из окна десятого «Б». Дом сразу под окном справа. С него начинается улица вверх, параллель ведёт в сторону, вдоль нашей школы. Не помню, не вижу, не знаю. Помню только богатые похороны ровно в 12 дня. Оркестр, литавры, грузовик, покрытый узорчатым бардовым ковром, цветы, венки. Впереди машины выстроилась, плавно движется, гусиная дорожка из людей с красными подушечками в руках. На них ордена и медали покойного. Чем выше чин и заслуги перед отечеством, тем длиннее людская дорожка. Первый ряд за машиной – люди в чёрном, родственники. Далее стройные ряды сослуживцев, друзей, знакомых. Хвост процессии обычно сбивается в размазанную кляксу, словно нарочно норовит испортить сложную символику события. Магия почти ежедневных похорон будоражит воображение. Бывало к сессиям готовилась здесь, на кладбище. Надо было только выбрать предмогильную удобную лавочку, обложиться учебниками и читать, читать. А потом бум-бум, будто кадр из фильма Феллини, мимо и сквозь меня.
А они там, внизу, пообедали, слушают венгерское радио. После новостей — цыганская музыка. Я их не знаю, но обязательно встречались. Невозможно не встретиться. Моим ровесники и тем, кто моложе, хорошо знакома эта семья. Многие «зависали» в доме Копельманов надолго. Не пришлось, увы, прошла мимо, хотя в небольшом городе, конечно, на слуху. Пошить брюки у Алика Копельмана, младшего брата Михаила, – огромная удача. Не каждому дано стать его клиентом. Джинсы пока ещё из разряда фантастических сюжетов перемещения вещей «оттуда» сюда. Из отдельно взятой капстраны к нам, под карпатскую горку.
Глава семьи — отдельная история. Портной от бога. Словом, небожители, богатые люди. Евреи, которые в первые послевоенные десятилетия, владели твёрдой профессией, заведовали универмагами, гастрономами, потом понемногу один за одним, похожей гусиной цепочкой, выехали. Остались то ли сильно упрямые, то ли сильно ленивые.
В конце сороковых, начале пятидесятых в городе (как, впрочем, и по всей тогдашней Европе) много и безудержно танцевали, чтобы отыскать силы жить, забыть, вернуть способность безмятежно спать. Два ресторана-атриума, где под каштанами, под синим звёздным вечным небом, обаятельно кинематографично плыли в вальсе влюблённые пары. Там плакали до исступления, до обмороков бились в восторге скрипки, вводя присутствующих в неудержимый музыкальный экстаз. Да, да! Параллель с куприновским-пауками «Гамбринусом» и Сашкой неизбежна, обязательно был вдохновенный Сашка, не точь-в-точь, очень похожий. Две редкие жемчужины в ушах города, два летних ресторанчика, отгороженных от любопытствующего взгляда стеной: деревья, пьедесталы для столиков под козырьками, ракушка сцены, дальше – залы для серьёзной публики с лепнинами, люстрами, зеркалами. Но именно эти каштаны и скрипки, демократичный гул публики, ценовая доступность остались в памяти. Ещё не Ужгород, ещё по старинке Унгвар, по духу своему и сути часть той империи, ещё маленький еврейский городок за пазухой Европы, ещё не сломленный, настоящий.
Зимой перемещались в Дом офицеров. Там было тесно и жарко. Звучал духовой оркестр советской армии. Моя мама, совсем не ужгородка, с моим кудрявым отцом военным, мечтающим сбросить форму, податься в Москву учиться, тоже не отставали, как все пели и танцевали, в результате появилась на свет я.
Михаил Копельман танцевал с родителями будучи в утробном состоянии, а потом, когда возник и определился в розовую субстанцию из кожи и плоти, безмятежно спал в коляске у столика. Кораблик в ресторанной гавани на волнах цыганско-венгерской музыки.
Нет, определённо, должна была знать эту женщину, хотя бы потому, что окна класса выходили на их угловой дом. В конце концов встречала на рынке, через который, чтобы сократить путь, порой ходила в школу. Как выглядел их дом? Не помню. На месте его нынче странное архитектурное чудовище с окнами-иллюминаторами. Был забор, калитка, вероятно, сад, хоть небольшой, но был. Мы ещё дети, ещё свежие листы в историях наших жизней не исписаны. Будущее — камень на раздорожье. Туда пойдёшь – то найдёшь, сюда повернёшь – не то найдёшь. Поворачивать некуда. Стена, забор, занавес. Ещё Хрущёв стучит туфлей по трибуне, обещая конкретно растолковать миру что такое эта самая кузькина мать. И не продраться сквозь густые кукурузные поля, потом через повисшие смогом словеса. Будущее есть, будущего нет. Империя, держава. Меньше индивидуального, больше – общественного. А прошлое деть куда? Под подушку не спрячешь, не помещается. Наш дед сквозь тяжёлый сон кричал ночами: «В атаку, огонь», и смешно путался в простынях.
У мамы Михаила Копельмана на левой руке номер 10945: Аушвиц. В 19 лет вышла замуж за отца, старшего на 15 лет. Им повезло, они вернулись. У отца до войны были жена и ребёнок. Исчезли без следа. Его, венгерского еврея, забирают в рабочие батальоны. Конечно, он сбежал, но куда? Русский лагерь для интернированных иностранцев. Дон, невероятной силы морозы. Спасало «хитрое» пальто, собственноручно сшитое мехом внутрь. Обувь никакая. Ноги обморозил. От ампутации категорически отказался. Горячая –холодная вода, бесконечные контрастные ванны. Кровообращение восстанавливается. Вши, тиф, дистрофия. Ежедневное ныряние в студёную воду. Так делал он и итальянские пленные, бывшие спортсмены. Еврей-богатырь, в быту — портной. Дивный образ человека большого духа и силы воли. Что-то от Герты Мюллер, её нобелевского романа «Качели дыхания», необычно странного, тяжелого, восхитительно прекрасного.
Дома – ни слова о лагерях. Мать и отец никогда вслух не вспоминали прошлое. Переполовиненные еврейские многодетные бедные семьи, из которых мало кто выжил. У культового чешского писателя Ольбрахта Подкарпатская Русь, село Колочава, еврейский быт, нюх, жизнь. И печальные глаза Анны Караджичевой. Вот почему туристов чехов в Колочаве – великое множество.
Держались дружно, собирались за большим столом. Однажды отца разыскал некрасивый грузный человек. Приехал из Венгрии. Сидели за столом, выпивали.
— Помнишь, Самуил, хотели поймать зазевавшуюся ворону, чтобы съесть, но сил никаких.
Разговор подслушанный сыном из-за неплотно прикрытых дверей. Не надо мальчику этого знать. У него своя жизнь впереди.
У Мишиной мамы есть своя история-легенда. О любви и концлагере. В неё влюбился американский солдат-освободитель, предложил поехать с ней. Невозможно. В словацкой деревушке под Унгваром её семья: братья, сёстры, родители. И тогда он снял с пальца золотое кольцо. На память, если понадобится обменять на хлеб, чтобы доехать, не умереть в дороге. Кольцо, действительно, пригодилось в пути.
В музыкальной школе нашли, что у мальчика «хорошие уши». Предложили выбрать скрипку. История жизни любого человека – совокупность роковых случайностей. Любых. Кого поднимают высоко-высоко, кого бросают в омут, из которого карабкаешься всю жизнь или сразу на дно.
Однажды в наш благословенный город приехал музыкант из Москвы и срочно захотелось ему пошить новый костюм. Спросил первого встречного: кто? Конечно, Копельман, вон там живёт, недалеко. Его звали Григорий Аркадьевич Березин. И вот они с матерью в поезде, долгая дорога в Москву, долгое прослушивание у профессора, недоумение как это у мальчика технически получается, под конец кинутое, будто под ноги, непонятное: «Ещё не поздно». Ему 13 лет, рядом уже ненадолго трудно понимающая русскую речь мать, предстоящая долгая учёба в Москве. Дальше – головокружительная музыкальная карьера, мировое признание, слава, наконец.
Слушаю интервью с Михаилом Копельманом. Одно, второе. Википедия подсказывает: советский и американский скрипач, музыкальный педагог. О чём больше говорит этот великий человек, видевший мир и его задворки? О семье, родном городе, детстве. Вероятно, дорого то, с чего начинается человек. Приближаясь к концу, нам всё ближе начало.
Помнит о Михаиле Копельмане родной город? Однозначно нет. Шандор Петефи переночевал на дрянном постоялом дворе, вышел, плюнул, возмутился лужами и грязью, а памятником удостоенный. Был тут великий венгерский поэт, плевал на австрийскую брусчатку, а может, мимо, прямо в лужу. О великом музыканте без следов: ни таблички, ни слова, ни воспоминания. Стыдно мне. За всех. И нас, и вас. Как жить в сегодня без вчера? Вот тебе и катавасия, что кроме церковного благочестивого праздничного песнопения означает ещё неразбериха и суета. А он сыграл все венгерские танцы Иоганна Брамса в обработке Иохима. Как же иначе.
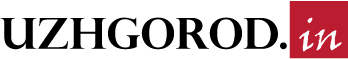

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.