То, что трогает, каким-то чудесным образом приходит неведомыми путями. И радуешься, вот оно, твоё. Хотя тут повод не то что грустный, печальный. Война — через судьбы нескольких миллионов. У него она острая, с режущей болью, слезами. У меня – отголосок чего-то навсегда потерянного, ушедшего, уходящего, не разглядеть. Словом, меланхолия.
Донецкий писатель Владимир Рафеенко в Украине известен не был до тех самых пор, пока не остался без крыши над головой. Печатался там, в России, удостоен одной из самых престижных премий. Остался на родине, переехал в Киев, кантовался у Андрея Бондаря, сейчас улеглось, как может улечься у человека, оторвавшего от тела частицу себя: дом, друзей, родителей. И вот теперь книга «Долгота дней», которую на днях перешлёт мне издатель и много-много интервью, эссе, рассказов на тему не возврата.
Во мне живёт свой Луганск. В мае 14-го были в Киеве, хотела рвануть: близко и не виделись давно. Звоню, сообщаю: еду. Не рады, уверяют: всё хорошо. К тёте Зине хочу, старенькая уже, повидаться бы. Мать в порядке, уверяет. Вообще всё отлично, в городе спокойно. Не стоит дёргаться. Выпьем, начнём о политике, поссоримся. К чему, ведь мы родные, в другой раз. Сын тоже не советует: мало ли что, всё очень зыбко. Так и не поехала. Она умерла, когда всё началось. Видимо ей не сказали, берегли. Зачем эта суета перед уходом. Мать он любил, хороший сын, щадил.
Помню в последний приезд, сразу после выборов Ющенка, она всё повторяла: видимся в последний раз. Слова звучали тревожно, торопливо. И рассказывала мне, как сестра, моя бабушка, отправляла её, совсем девчонку, в эвакуацию. Вокзал враг сильно бомбил. Катя (бабушка) искала Зину среди мёртвых и раненых. Они условились, что девочка для верности привяжет эмалированную белую кружку, ту, что завод луганский выпускает, к руке. Белое пятно среди крови, стонов, развороченных тел, маленькая кружечка, знак узнавания. Их состав ушёл, повезло. По пути настигала вражеская авиация, поезд останавливался, люди разбегались в поля, прятались в овраги. Зина оказалась в далёком Ташкенте. Возвращалась три года. Всё та же теплушка, остановки не на час, месяцы.
Мы лежали в знакомой с детства выбеленной в чисто белый цвет комнате, с выкрашенными в сурик полами, окнами в сад. Яблони тихо позванивали от мороза. Слушала, тётя Зина тихо говорила. «А кто это Петя, которого бабушка звала в забытье?» — спросила я. «Так это брат наш, моряк, утонул корабль во время войны». Потом об отце, оставшемся в Артёмовске, фотографии которого я в тот приезд спёрла с благими намерениями сделать копии, вставить в рамочки и вернуть, не сложилось. О профессоре Каменец-Подольского университета, имени не знаю, теперь и спросить не у кого. Он был первым мужем сестры Люды, попал в немилость за знание немецкого, разжаловали, отправили учительстовать в сельскую школу. Он знал и ждал. Мерил комнату шагами, без конца ходил, заложив руки за спину, профиль Блока, нервный торопливый ход маятника. Они таки пришли. Ночью. Утром тётя Люда бросилась искать, как в воду канул. Так вот, чей дагерротип хранится в бабушкином сундучке! И не подозревала.
И не Люда она, а Дуся, Евдокия. Не модное по тем временам имя, не нравилось. Лет себе тоже убавила, потом когда на пенсию шла…У неё два высших образования: одно – гуманитарное, другое – что-то пищевое. Тихий голос, как река, нёс волной чью-то жизнь, замученную, выстраданную. Эта была жизнь моей семьи. Под этот тихий, слабый голос исповеди мы уснули. Не приедешь больше, видимся в последний раз. Приеду, обещаю, обязательно.
День был трудный. Новый год. Собрались за столом. Жить тяжко, заводы стоят, работы нет. Основной стабильный источник – пенсия матери. Ну я и развернулась. Накрыла стол, что скатерть самобранка. Они заладили. Не любим Ющенка и украинский язык. Какие же песни вы поёте летом в саду под яблоням? А? И мы с Анатолием крепко выпили и разругались с его женой и пасынком. То есть напились мы не из-за радости общей мысли. Просто знали, что так, как раньше, уже никогда не будет. Не сидеть всем вместе за большим, грубо сколоченным столом в саду, где сладко пахнет
абрикосом. Никогда. Никто уже не скажет: хочу в Луганск. Мы сядем в поезд, три поколения женщин: бабушка, мама и я. Локомотив понесёт нас через бескрайние подсолнечные поля. Они будут ехать к себе на родину, я – в гости. Моя родина — горы и туманы над ними.
Звонили, приглашали, сын брал все расходы на себя. Приехала дочь Анатолия, Леночка. Длинноногая красавица, наша порода. Возили во Львов, искали бандеровцев, водили по Ужгороду, привезли к нам в Широкий Луг. Понравилось очень. Потом пошла, сука, на референдум, сообщила о торжественной обстановке и слезах на глаза. Проголосовала «за» и укатила жить в Одессу. Раньше звонила ему, теперь не хочу. Дети рассказывали, во время разговора запел, сильно выпивший был. Рядом голос одёрнул. Нельзя украинские песни петь, услышат, расстреляют.
Не приехала повидаться, не расспросила о многом, никогда больше не приеду. Не буду в Кадиевке, не вдыхать больше пьянящий запах полыни, терриконов и абрикос, запах летнего горячего Донбасса.
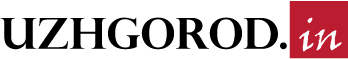

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.