На этой неделе посчастливилось побывать на экскурсии в частном музее знаменитого закарпатца, народного художника Владимира Микиты. И вот во время просмотра экспозиции мастер сделал длинное лирическое отступление. О своих портретах — которые когда-то писал со знаменитых закарпатцев. (Примечательно, что большинства этих картин нет в музее, разве изображение писателя Петра Скунца, которое таки попало в экспозицию «домашнего» музея Владимира Микиты и открыто зрителю в одной из комнат на втором этаже). Слова художника сплелись в рассказ с интересными деталями о выдающихся закарпатцах (писателях, художниках, ученых, врачах), которых он когда-то запечатлел на своих полотнах — и мы просто не могли с вами этими деталями не поделиться.
«Показать нутро человека — вот сущность портрета»
— О моих портретах часто речь заходит, когда посетители просят рассказать историю картины, — говорит мастер. – Самый первый и повторяющийся вопрос: как долго позировали герои? И всех страшно удивляет, когда я говорю, что ни один из своих портретов знаменитых людей не писал с натуры. Для некоторых даже зарисовок не делал. Я все делал по памяти. У каждого просто свой образ, вот у меня — такой.
И это удивляет не только современных ценителей творчества Владимира Микиты, это удивляло даже его коллег.
— Глюк долго не мог понять — как так можно: портрет нарисовать без того, чтобы кто-то тебе часами позировал. Не мог, потому что он тоже писал портреты — и писал их именно классическим способом.
— И как вы обычно объясняете такую особенность работы? — спрашиваю у мастера.
— Я ставлю в пример великих. Вот Леонардо, Боттичелли или Гойя — мировые мастера. Они такие мастера были, что портрет за полдня могли сделать — так для чего тогда они по полгода ходили на разговоры к своим героям — королям, князям? Почему месяцами писали? А потому, что они искали способ, вот так приходя к ним и разговаривая — чтобы их раскрыть изнутри, чтобы понять их нутро, суть, характер. Почему-то это никому не приходит в голову, а именно это и есть сущность портрета.
«Мама, как вставала перед портретом Снигурского молилась»
Именно из-за такой особенности работы, портреты Владимира Микиты для его героев часто выходили неожиданностями.
— Вот такая была ситуация, когда я написал Дмитрия Снигурского, известного невропатолога. Мы с ним сдружились, он мне помогал как врач, начали общаться, и я его полюбил как врача, и он часто приходил, чтобы изучать меня — такой получился хороший контакт между нами. Он имел физический недостаток, генетически имел форму лица такую удлиненную — это называют «лошадиная челюсть». Поэтому часто отказывал известным портретистам. Говорил, что отказал Глюку, когда тот просил его позировать. Он боялся, комплексовал, что его изобразят с таким его лицом. Хотя этот физический недостаток для художника, наоборот, очень интересный — поэтому можно понять, почему Снигурского просили позировать. Но меня эта его особенность совершенно не интересовала, я видел в нем просто Человека — уникального, глубокого. И вот как-то ночью я проснулся от того, что увидел его, встал, пошел в комнату и начал рисовать. Я видел перед собой, он стоял перед глазами. Но тот портрет создавал долго, надо было потом композиционно формировать полотно. Ну а когда было готово, позвонил ему: «Дима, придите, посмотрите портрет» — «Какой?» — «Ваш портрет». — «Мой, не может быть, я вам не позировал! Не видел даже, чтобы вы зарисовку делали» (я редко, действительно, делал зарисовки к портретам, и фотографировать я вообще никогда не практиковал, и сам, кстати не люблю сниматься). Но он пришел. Перед тем переспросил, может ли прийти с коллегами. Я их пригласил. Он пришел с семью друзьями, среди них — с тогдашним главным врачом области Степаняном. Зашли в комнату, а портрет стоял на мольберте. Степанян первым делом спросил: «Дима, ты что, позировал?» — «Нет», — отвечает. — «Интересно. Дима, стань рядом с портретом. Дима, ну отойди. Интересно, почему ты на портрете лучше, чем на самом деле?» Видно, они так же видели его душу — красоту человеческую, а не его уродство.
Этот портрет был в двух вариантах, первый подарил в итоге Снигурскому, на какой-то юбилей, а потом еще второй сделал. А пока тот. первый еще был у меня, мама еще жила, то утром она как вставала — перед портретом молилась всегда. Она там тоже видела его душу.
«Мне стало плохо, наблюдая, как Фединец оперирует — пришлось выходить»
— Другой известный врач — ужгородский хирург Александр Фединец тоже часто ко мне заходил после операций, — говорит Владимир Никита. — Мы тоже с ним были очень близки определенный период — хотя и разница в годах была 40 лет, как-никак. Но,тем не менее, он во мне видел того, с кем можно поделиться сокровенным — мыслями. Ни с кем из своих коллег или даже учениками этого сделать не мог — знал, что все были завербованы. Поэтому ему было чрезвычайно трудно. Ведь человеку необходимо исповедоваться. А во мне он нашел того человека, с кем можно было поговорить. Однажды во время таких вот разговоров мне пришла идея написать Фединца. Я ему сказал об этом — мол, имею желание тебя нарисовать, но хочу видеть при работе. Он говорит: «Володя, в четверг придешь? Буду иметь большую операцию — надо вырезать желчный камень». — Говорю: «Да». Пришел. Начали операцию. Меня тоже одели, он сказал стать сбоку и наблюдать. И вот когда я увидел, как он вскрыл брюхо, как оттуда кровь потекла, как он с легкостью орудовал там между внутренностями — мне стало плохо. Пришлось выходить. Фединец сказал потом после операции за кофе: «Видів-ім, що сь виходив, но айбо ти не ганьбися, бо я теж коли вперше був на операції в войську, то зомлів».
«Мики-и-итка! — он понял цель моей работы, — так я того заслужил, чтобы меня увековечить?»
— Точно такая же ситуация была с Манайло, — продолжает Владимир Васильевич. — С Федором Федоровичем мы были близкими друзьями, несмотря на то, что он был моим преподавателем, профессором. Мы сблизились в последние его годы — он даже настоял на том, чтобы мы были с ним на «ты». Я часто у него бывал — в его мастерской всегда было много выдающихся людей. Мне было интересно наблюдать за ним в работе, в общении. Мы часто также выезжали вместе в горы рисовать — у него была машина, а я был за шофера. И вот я решил его портрет нарисовать. Имел несколько зарисовок — дружеские шаржи, которые сделал во время каких-то скучных заседаний, но их использовать нельзя. Опять рисовал по памяти. Я хотел показать его двоякую суть. С одной стороны, он был человек чрезвычайно жизнеутверждающий, он любил жизнь чрезвычайно, веселил всех, был глубоким философом. А с другой стороны — имел большую трагедию. Его преследовали — постоянно придирались к его работам, как и всех художников того времени, ведь он в свое время, как и все художники его возраста, служил в мадьярской армии. Поэтому он не писал социальные работы, которые хотел бы, был вынужден перейти на пейзажи, так вечно над ним висел петля той войны. Он всегда чувствовал здесь тревогу, и это чувствовалось — теми, кто близко его знал. И вот, когда портрет был готов, я также позвонил и пригласил его прийти ко мне, посмотреть. «Федор Федорович, зайди посмотреть портрет». — «Чей? Мой? Никогда не видел, чтобы хоть один набросок сделал! И когда успел?» — Я ему: «Зайди». — «Слушай, — говорит, — если ты меня старика обманываешь!» — Но зашел. Взял по дороге бутылку коньяка подмышки — и ко мне на квартиру. Там я имел и мастерскую долгое время. Зашел, посмотрел и застыл. Смотрел несколько минут, молча, а потом раз — и слезы закапали. «Мики-и-итко! — он понял цель моей работы, — так я того заслужил, чтобы меня увековечить?» — «Да, — говорю, — если не вы заслужили, то кто?» Обцеловал меня, просидели мы весь день тогда, и не за одной бутылочкой…
«Вот по портрету Чендея должен признаться: сделал несколько зарисовок
углем»
Похожая ситуация была и с портретом Чендея. Жена его посмотрела впервые на портрет — и говорит: «Как так можно? Чтобы в одном портрете видно, что это — талантливый писатель, что он одновременно добродушный и злобный?» Потому что Чендей временами бывал, действительно, злобный, беспардонный, грубый. Такую имел натуру — и одновременно мог так писать! «За света Божьего не понимаю», — сказала его жена.
Хотя, если действительно сказать правду о портрете Чендея, то должен признаться, что к нему делал несколько зарисовок углем. Так же как и со Скунца. А уже потом портреты завершал композиционно сам, в мастерской. Кстати, потрет Петра Скунца — единственная из работ, которая есть в частном музее мастера и которую могли увидеть в тот день.
«Я категорически против, чтобы меня рисовали»
— То есть, Ваши портреты для вас самого были откровениями об определенном человеке? А для модели — почти всегда сюрпризом?
— Так, по крайней мере, получалось — что именно как сюрприз.
— Когда, по-Вашему, человек достоен портрета от художника?
— Ну, это очевидно: когда он оставил какие-то серьезные следы в обществе, не впустую прожил — это бесспорно.
– Ну, очевидно или нет — еще вопрос, потому что мы в последнее время видели немало портретов, которые потрясли общество. Вот прокурор в виде Цезаря или Наполеона. И наверное, не только у него такие произведения искусства есть ...
— Ну, это больные люди, однозначно.
— Многие просились к Вам на портрет в свое время?
— О-о, не то слово! Конечно, — говорит мастер. — Да я и рисовал в свое время много портретов. — Здесь у мастера в голосе проблескивают грустные нотки: — А вот сейчас бы не смог нарисовать портрет, зрение, знаете, уже плохой. Ну разве абстрактный стиль выбрал бы …
— А автопортреты писали?
— Ну, конечно, это — тренировка перед написанием чьего портрета.
— Вы с себя писать картины позволяете?
— Я категорически против, чтобы меня рисовали, так ни разу никому не позировал для портрета. Но как-то позволил себя фотографировать, одна из студенток запланировала писать мой портрет по фотографиям — это была ее дипломная работа. Она приходила ко мне, много фотографировала, потом сделала эскиз, показала, я сделал замечание. Тогда по тем эскизам она создала работу.
— Ну, вот если бы сейчас кто-то из чиновников попросил: «Владимир Васильевич, нарисуйте – меня или жену, любые деньги плачу!» Вот, например, Вы за них себе музей достроите …Согласились бы?
— Ну, во-первых: я не имею крошки высоких чувств, или дружбы, или увлечения кем-то из нынешних чиновников — чтобы их захотелось рисовать. А во-вторых, есть ненависть к деньгам. Мне нужен мой минимум: столько, сколько нужно для моей жизни, а еще — чтобы где-то помочь внукам, заметьте: не баловать их, нет, а именно — помочь при необходимости. Когда есть необходимость в деньгах — привык продать что-то из работ. Но чтобы был интерес в деньгах — для меня это непонятно. Вот смотрю на властных мужей наших — я бы в их шкуре одну ночь не хотел пробыть. Так, мне кажется, несчастные люди в жизни: чтобы без охраны не мог спать, есть, выйти на улицу, в магазин … Я не могу их понять! Так и хочется сказать: опомнитесь, потому что в действительности же человеку так мало надо!
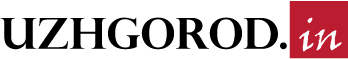









Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.